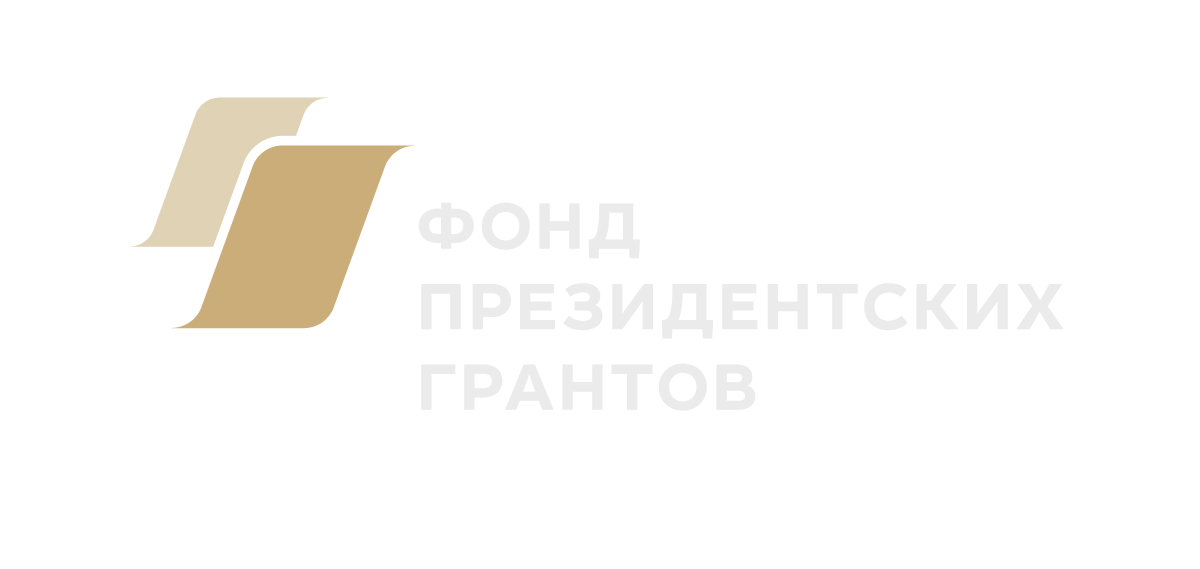Рояль дрожащий пену с губ оближет
Я — бивень! Ку-ку, кукареку.
-Чернуха, — мама в последний раз смотрит на экран, где на скрипучей телеге уже проползли титры фильма, и уплывает куда-то в дебри квартиры, поспешно скрываясь от некрасивости реальной жизни.
Все любят красивые открытки, где ели пружинят в белую окантовку бумаги, буквы такие ровные в своей косости, открытка пахнет краской, бумагой, чуть-чуть языком дерева, чуть-чуть новизной в пальцах. Все любят красивую жизнь, а красивая, значит свободная, независимая, без разлук и глупых слов типа «неурядица» и «несчастье», и чтобы за окном всё было солнечно как в палитре и зелено как на картинах Шишкина. А то, что не красиво, как-то сразу «табу». И покоцанное собакой зеркальце не покажешь, и порванная футболка уже не такая, как новая, и пробоины в жизни тоже скашивают всё в одно понятие «некрасиво». Но тут взяли и показали, открыв глаза на целую книгу и киноленту — «Географ глобус пропил».
В русской классической литературе можно найти массу произведений, где виднеются мрачные тучи, клинится свет на проблеме «маленького человека», пылают на Чукотке репрессии, идет перестройка, эмиграция и масса того, после прочтения которого можно осознать, что бывало и хуже, а у нас, к счастью, всё ещё хорошо. Так вот у нас всё еще хорошо, если где-то бывает до немонашеской святости плохо.
Есть главный герой — не пионер и не образец достояния — с пылью на бортиках пиджака, с явным невыводимым перегаром и сросшейся полушариями усталостью. По книге ему хлопнуло четыре раза по десять, а в фильме ему еще только 28, он географ в окрестностях Перми и пьет пиво напротив «счастье не за горами». «И не за лесами, » — как считает Служкин. В его неряшливом виде, слабой решительности и уверенной нерешительности нет отродясь ничего красивого, от этого нет и тонкого намека на хотя бы такое же тонкое счастье.
Российская реалия, в которой варятся алкоголики, держащие за пазухой законную «четверку», недовольные женщины, расчесывающиеся по утрам зубчатой бытовухой, где есть кастрюли из нержавейки, динозавры, живущие на балконе, и желание смять в комок стекло.
Наполовину святой, наполовину алкоголик — Географ — желающий не быть ни для кого залогом счастья, сам освобождающийся от такой должности, наблюдающий за тлеющим кончиком сигареты больше, чем за всей своей жизнью, живущий в антураже безвылазной отчаянности: в жизни, в Будкине, в Наде, в Пушкине; на фоне покусанной тайги, их с Машей темных теней, бессильно падающих на туманный изумруд, он начинает по-коньячному крепко верить, что Маша, укрывшись в свои темные кудри, без него обязательно сможет. Он уже выдохся в этой жизни, а смотря на него сам выдыхаешься и хочется залечь на глубокое чулманское дно. Вот он в очередной раз путается в жизни, пытаясь развязать узлы рассеянных силуэтов, теряющихся в теплом воздухе, мелькающих между узкими полосками неясного ночного фонарного света. согревший Машу, сидящий с садящей расцарапанной спиной, отхлестанной ссохшимися вениками, белеющими лопатками чувствующий, как Маша смотрит на него, бегает по хребтине взглядом, перебирает кипенные позвонки.
Географ привык жить. Напротив плаката Моррисона, засыпая в кресле, прислоняясь к дверям в тамбуре электрички, и крутя новую сигарету, держа в руках тихо тлеющую, робея перед Машей, как грешник перед ангелом, чувствуя, как заржавевшие когти души тихонько разжимаются, «застаиваясь» под созвездиями с дырявыми карманами, из которых всё выпало и теперь ни истины, ни подвига, ни друга, ни гроша, ни стыда, ни совести.
И уже кажется, что этот фильм не о чернухе, не о потрясающем бескультурии в области, не о несчастных русских женщинах и их не менее несчастных мужьях-алконавтах. Он об утраченном — величии, самоуважении, сознании своей ценности, значении, но это тоже, ни разу не красиво.